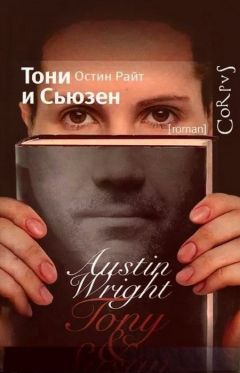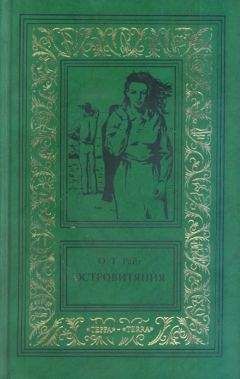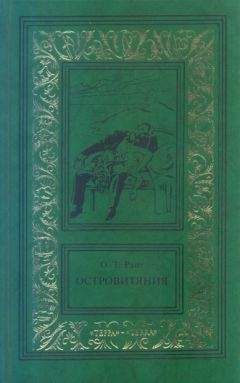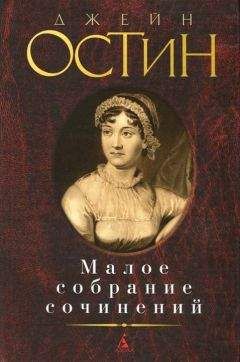Натан Дубовицкий - Околоноля [gangsta fiction]
Уходя, с ненавистью заглянул в зеркало, обругал отражённого. Потом потоптался у «Алмазного» минут десять. Пришла Света, передала Настю молча, как меланхоличного шпиона по обмену на мосту в каком-то бесконечном, тягучем и почти немом старом фильме передавали.
Егор пристегнул Настю к заднему сиденью, сел за руль и спросил: «Куда поедем, Настенька?»
Настенька Самоходова была их тех детей, что наследуют от вполне сносных и даже симпатичных родителей всё самое в них неудачное, некрасивое, скверно сделанное и так себе работающее, да к тому же несочетаемое между собой совершенно и порой карикатурно усиленное. Крупный искривлённый егоров нос Насти несуразно крепился к её узкому светиному лицу. Несимметричные оттопыренные уши от бывш. жены не могли спрятаться под тонкими и негустыми волосами, переданными мужем. Близко посаженные и так небольшие мамины глаза совсем пропадали под отцовскими неандертальски недетскими надбровными дугами. Егор немного сутулился, дочь была едва ли не горбата. Светлана с годами сделалась, что называется, в теле, дочь в свои шесть лет потолстела наподобие жабы, заросла с ног до головы сальными складками какой-то томлёной свинины и обжиралась сладостями ежечасно, и тучнела одышливо дальше. Егор был ленив — Настя недвижна, как облопавшийся рогипнолу полип. Света слыла едкой и язвительной — Настя росла тупо злой. Она была некрасивый, нелюбимый, нелюбящий ребёнок, которого, набравшись терпения, предстояло откормить до размеров и жирности крупной, круглой, глупой, стопроцентно холестериновой бабы.
Так понимал Егор свой родительский долг.
— В аптеку, — сказала она.
— Зачем?
— Купить гематоген и зубную пасту, — сказала Настя.
— Хорошо, поехали.
Егор, не умевший с Настей ни играть, ни разговаривать, всегда покупал ей всё, что той желалось, чем спасал себя от повинности вникать в нюансы её воспитания и раздражал строгую её мать. Из ближайшей аптеки добыты были и отборный гематоген, и семь тюбиков разной зубной пасты.
— Куда теперь? — поинтересовался Егор. Он не представлял, куда её можно повезти. — В кино? Зоопарк? Музей? В театр, цирк?
— Нет, нет, нет, нет, нет… — отказалась дочка.
— В Мегацентр, за игрушками?
— Да, поехали. Там мороженое продают и сладкие орехи. Поехали в Мегацентр.
— Зачем ты ешь зубную пасту? — ужаснулся Егор.
— Все дети едят зубную пасту. Так мне мама говорила. И ты ел.
— Ел, — вспомнил Егор. — Но не так много. Много нельзя.
Настя деловито зарыдала, без увертюры, вдруг знакомым заливистым и залихвастским голосом охранявшей чей-то захудалый хюндай дворовой сигнализации, будившей Егора в самый сон, в неделю трижды-четырежды, и затихавшей не сразу, только после многих пинков и увещеваний неизвестного хозяина, человека интеллигентного и куртуазного, полчаса ещё оглашающего с трудом восстановленную тишину зычными на весь двор извинениями перед соседями за доставленные неудобства и суровую побудку. Закативши садическое фортиссимо и фонтанируя раскалёнными слезами, девочка наблюдала за папой, как биолог за белой мышью, только что получившей лошадиный дозняк непроверенной микстуры, которая если не убьёт, то что-нибудь да вылечит.
— Ладно, ладно, Насть, ешь. Ешь, пожалуйста, — капитулировал забрызганный отец.
Рыдания автоматически прекратились.
— Расскажи сказку, — потребовала Настя.
— Сначала ты мне расскажи какой-нибудь стишок. В школе ведь вы стихи учите, — педагогическим тоном выдвинул встречное требование Егор.
— Эти реки впадают в озёра,
из которых они вытекают.
Это ясно, но вот в чём секрет:
где находятся эти озёра,
что великие реки питают?
А озёр этих попросту нет.
Вот и всё. Ну какой тут секрет!
Непонятно, признаюсь, как другу,
но допустим, и это мне ясно.
Это ясно, но вот в чём секрет:
для чего реки мчатся по кругу?
Ты волнуешься, право, напрасно.
Ведь и рек этих попросту нет.
Вот и всё. Ну какой тут секрет!
— неожиданно оттараторила дочь.
— Недурно. А кто написал? — Егору понравились стихи.
— Не знаю. Сказку рассказывай. Обещал.
— Про курочку Рябу? Волка и козлят? Может, про Микки-мауса? — засуетился отец. Задумался и добавил. — А ещё есть сказка про то, как мужик учил медведя кобылу пежить. Хотя это потом, когда вырастешь… Или о том, как одна девица из рода Агата, из деревни Кусуми округа Катаката земли Мино во время правления государя Камму, летом первого года Вечного Здравствия родила два камня, а из округа Ацуми явился великий бог Инаба и сказал: «Эти два камня — мои дети»…
— Это старые сказки. Расскажи новую. Про Валли, например, Вольта.
— А это кто? — растерялся Егор.
— Ну, рассказывай что-нибудь новое.
22
Егор думал-думал, думал-думал и, видя, что Настя теряет терпение и до включения хюндаевой сирены остаются считанные секунды, от безысходности начал декламировать один из своих старых рассказов:
— «Город огромный, как мир огромный, как город» — этот бесконечно-замкнутый образ, действительно, неплохо передаёт тот докоперниковский взгляд на вещи, который свойственен мне, как и любому горожанину, и который помещает в центр вселенной не бога, не солнце, не даже человека, но первую попавшуюся модную городскую сплетню.
Впрочем, предки наши, гордая нация ростовщиков и полководцев, сделали город столицей такой необозримой империи и населили эту столицу таким неисчислимым количеством обывателей, и украсили её улицы такой неоценимой роскошью, что подобная узость моей метафизики вполне извинительна.
Описывать город не буду, поскольку те немногие, что живут за его пределами, хоть раз, хоть проездом, но здесь побывали.
Для того, чтобы начать рассказ, напомню только, что любые перемещения по городу крайне затруднительны. Люди и машины обрушиваются друг на друга днём и ночью непреодолимым потоком.
Так называемые пробки на дорогах были когда-то муниципальным бедствием, а теперь, как и любое бедствие, с которыми ничего не поделать, превратились в образ жизни. В пробках рождаются и умирают, играют в карты, участвуют в выборах, сочиняют и исполняют песни. В пробках же затерялись некоторые магазины, банки, профсоюзы, где-то в них вынуждено функционировать даже одно министерство. Можно передвигаться по тротуарам, но пешеход никогда не знает, куда утащит его толпа. Подземка также не оправдала возложенных было на неё надежд — аварии, забастовки и хулиганы сделали этот вид транспорта аттракционом для авантюристов.
Поэтому горожане редко удаляются от дома, а если удаляются, то в их возвращение мало кто верит.
Я, например, никогда не бывал в центре города (он прекрасен) и ничто не заставит меня посетить манящие окраины, таинственность и небезобидный колорит которых принесли в известные годы недолгий международный успех нашему кинематографу.
Поэтому, женившись, я был счастлив воспользоваться предложением Павла Петровича. Он, кажется, русский и преподаёт патаботанику в одной из экспериментальных школ, где несчастных подростков оснащают знанием всякой ерунды, полагая (и, надо признать, справедливо), что город прокормит работника любой, и самой бессмысленной в том числе, специальности.
Павел Петрович сдал нам с женой комнату в своей небольшой мансарде. Вторую комнату занимал, по его словам, интеллигентнейший и тишайший квартирант, находиться под одной крышей с которым одно удовольствие. Сам Павел Петрович обитал в школьной оранжерее, среди поражённых экзотическими недугами растений. Плату он запросил самую умеренную, но взамен обязал нас ухаживать за «кое-чем, не уместившемся в оранжерее».
Иметь почти задаром жильё в двух шагах от конторы (я работаю в статистическом бюро, уже пятьдесят лет пытающемся организовать перепись населения города — безуспешно), в хорошем районе, с отличным видом и спокойным соседом очень заманчиво, и мы переехали. Покой, замечу, особенно ценен для моей жены по причине отчасти деликатной. Дело в том, что ещё за полгода до нашей свадьбы она сошла с ума. Ей показалось, что она жена Шопена — безумие вполне рядовое в здешних краях, на которое можно было бы и не обращать внимание, но ей нужен был композитор. Тут, в каком-то кафе, она впервые увидела меня. Ей показалось, что я Шопен. Я и не заметил её, но было поздно. Через месяц мне позвонил её врач и рассказал всю эту дичь. Родители несчастной ползали у моих ног и читали навзрыд историю болезни. Они умоляли меня жениться на ней, поскольку жена Шопена должна же быть замужем, иначе безумие обострится до крайней степени, так что станет возможным летальный исход. Я, естественно, отказался, но они приползли опять, прихватив с собой и врача, и дочь. Врач бубнил про гуманность и самопожертвование, а жена Шопена смотрела на меня так, как ни одна женщина не смотрела на меня раньше. Шопену повезло (не знаю, был ли он женат) — она настоящая красавица. Я влюбился сразу, приврал, по совету врача, что-то насчёт незавершённой симфонии и с наслаждением вступил в брак.